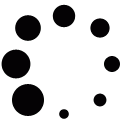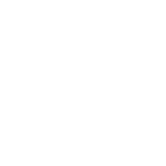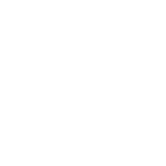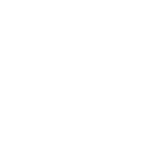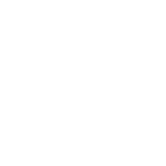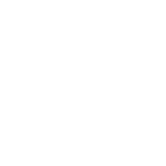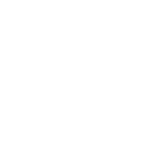Первые школьные годы я учился в художественном классе и довольно много рисовал вне обязательной программы. Возникала еще пока плохо осознаваемая, но сильно чувствуемая потребность изучать грамоту искусства. Мама выписывала мне «Юный художник». Этот журнал на несколько лет стал почти единственным и любимым моим учителем. Его номера я пролистывал сотни раз и все сохранил доныне.
Я читал на страницах журнала названия музеев, в которых хранятся произведения знаменитых художников, и взгляд, конечно, особенно останавливался на Третьяковской галерее. Эти два слова – Третьяковская галерея – вызывали во мне трепет и какое-то преклонение, как перед неким главным храмом искусства, порог которого я мечтал переступить и увидеть собственными глазами те самые шедевры, которые знал только по журнальным репродукциям. В какой-то мере посещение владимирского музея, где я впервые увидел подлинную живопись, еще больше укрепляло это желание. Я просил маму поехать в Москву. Это было начало мрачных и трудных 1990-х, и поехать в Москву из соседнего Владимира было нам не всегда по карману.
Наконец, летом 1994 года мы в Москве. Помню, с каким светлым чувством, с вылетавшим из груди сердцем я почти бежал по Лаврушинскому переулку… Но двери Третьяковки были плотно закрыты. Уже несколько лет шла большая реставрация, о которой мы во Владимире не знали. Кажется, пожилая женщина, из работников галереи, вышла к нам и, с жалостью взглянув на меня, чуть ли не всхлипывавшего, сказала, чтобы мы не расстраивались, а ехали на Крымский вал. Там устраиваются временные выставки Третьяковской галереи, а сейчас открыта большая выставка Василия Дмитриевича Поленова.
Это была масштабная выставка к 150-летию со дня рождения художника. В больших залах на стенах и отдельных щитах висели почти все известные картины Поленова. Народу было много; так, по крайней мере, казалось мне, маленькому провинциалу. Саму экспозицию я сейчас помню плохо. Помню только картину «Московский дворик», висевшую на одной из центральных стен, «Бабушкин сад» и особенно врезавшуюся в память «Больную» – страдающую девочку, лежащую в постели и освещенную боковым светом лампы.
Выставку я обошел несколько раз, торжествовал и почти забыл ту минуту, когда увидел перед собой закрытые двери старого здания галереи в Лаврушинском переулке.
Из Москвы я увез не только воспоминания о выставке, но и книгу о передвижниках, которую, как я помню, зачитывал насквозь, всем показывал и по которой учился.
Летние каникулы кончились, я пошел в пятый класс. Учился я уже не в классе с художественным уклоном, и урок изобразительного искусства был в неделю только один. И вот первый такой урок, учительница объявила свободную тему. Я хотел обязательно рассказать о том, как побывал в Третьяковской галерее на выставке Поленова и взялся ее рисовать. Вышла работа жидко разведенной гуашью, как я тогда делал, в теплой гамме: вид зала, который я почему-то изобразил сверху, зрители, толпящиеся между расставленных гармошкой щитов, и где-то я с мамой. Учительница хвалила и, кажется, взяла у меня этот лист на школьную выставку, но я требовал непременно вернуть его, он был мне очень дорог как воспоминание об одном из первых моих музеев.
* * *
Наступил 1998 год. Я стал старше всего на несколько лет и впервые побывал в Эрмитаже и Русском музее. Я восторгался, я превозносил Петербург, но что-то уже безвозвратно изменилось, не осталось больше таких глубоких пронзительных следов в моей душе, как от экспозиции владимирского музея и выставки Поленова на Крымском валу. Наверное, социум принялся пожирать во взрослеющей душе способность к таким чистым впечатлениям, которые могут осветить полжизни и быть для нее маяком, быть светом на сложном пути в искусстве.
Фото: