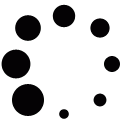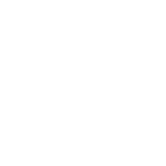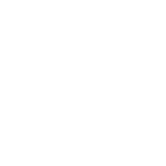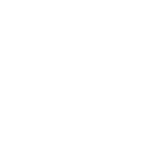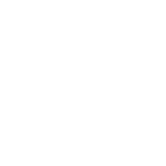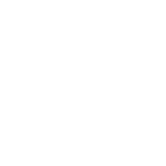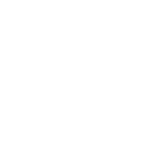В годы учебы я бывал в Русском музее едва ли не чаще, чем где-то еще. Я мог на ощупь найти зал любого мастера и безошибочно воспроизвести развеску полотен. Я впитал в себя его шедевры, запрятал их под сердце, как воспоминания о самых дорогих людях.
Прошло 8 лет. В ноябре 2014 года Русский музей показался мне другим. Эта встреча была похожа на встречу с дорогими людьми, лица которых всегда представляются тебе, но после долгой разлуки ты вглядываешься в них пристально, хотя и с легкой блаженной улыбкой, словно удостоверяющей узнавание, и находишь новые черты, которых раньше не замечал.
Брюллов, Бруни, Семирадский, Суриков, Репин, вне зависимости от разного качества и места в истории искусства произведений каждого, подавили (и раздавили) форматами и грандиозностью тем. Постоять под ними, и тщетность наших потуг как-то очень явственна.
В Русском музее по понятным причинам меньше духа передвижничества, а потому и светлее экспозиция. Несколько Перовых и Маковских дают хорошую передышку от титанов и не кажутся слишком литературно-навязчивыми.
Репина смотрел особо, перечитав перед тем основные главы монографии Грабаря. Репин, конечно, хорош. Если в «Бурлаках», которых я очень люблю за песочно-охристый колорит и организацию пространства, кисть еще не всегда тверда, особенно в контурах и касаниях, то «Запорожцы» – это пир для глаз. Есть ощущение, что в Русском музее Репин более типичен, более соответствует «самому себе», чем в Третьяковке, где Репина мне как-то недостаточно, будто из нее убрали пару хороших репинских вещей.
В небольшом зале Куинджи – трепет и преклонение, преклонение и трепет. Что он сотворил с небом в «Ночном», какую дивную живописную сказку разостлал!
Вот Левитана в Русском, наоборот, мало, хороший Левитан весь в Москве.
Одна из самых счастливых встреч – с тремя вещами любимого Грабаря. В первой половине 2000-х в корпусе Бенуа выставлялся только «Дельфиниум». Теперь его перенесли в один из проходных залов и присоседили «Цветы и фрукты на рояле», которыми автор был очень доволен, и не самый вразумительный холст «В утренней росе». Этих двух вещей я в живую не видел. Смотрел спокойнее, чем раньше. Что-то переболело или переосозналось. Скорее, последнее, т.к. ясно отметил, что живопись при отличной прочности густого красочного слоя, которую обеспечивает тянущий клеемеловой грунт Грабаря, тускнеет и теряет звучность исходных цветов, что является прямым следствием применения того же грунта.
Развеску в корпусе Бенуа изменили так, что поначалу я путался, где что, и некоторых любимых вещей не нашел.
Врубель потух, но форма у него высечена так, что даже погасшие цвета не позволяют сомневаться в его гении.
У элегантного, умного и обладавшего превосходным вкусом Серова наслаждался удивительно звучным жемчужным колоритом «Портрета Орловой», не передаваемым ни одной репродукцией.
Авангард и вторую половину XX века петербургские искусствоведы составили с куда большими вкусом и тактом, чем их московские коллеги с Крымского вала, что, впрочем, и не удивительно. Во всяком случае, осматривая этот период в таком виде впервые, я не испытывал недоумений и отвращения.
Внимательно постоял перед небольшой «Тушей» 1960-х годов высоко ценимого мной Шемякина. Видя ее ранее только в репродукциях, я не мог должным образом оценить фактуру. И вот прекрасный случай, тем более, что живописи у Шемякина сравнительно немного. Фактуру он нарастил перед писанием красками, равномерно по всей площади картины, отчего, надо сказать, фактура «живет» на формате не слишком органично. Только гармония рельефа и плоскости дает сильное художественное впечатление. Красочный слой «Туши», как это было у старых мастеров, образован красивыми лессировками теплых оттенков.
Таков «другой» Русский музей. В сущности и не «другой», а мой Русский музей 2014 года.