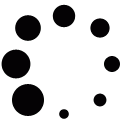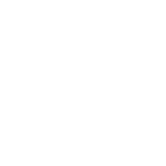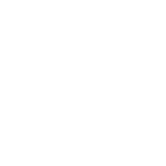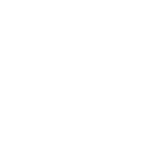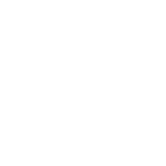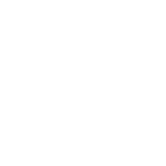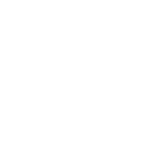Картины. И еще книги... Не все, а лишь хорошие картины и умные книги следуют законам коммуникации подобно хорошим и умным людям. К ним приходишь, как на встречу к дорогому и интересному человеку. С ними ведешь свой, визуальный, вербальный, образный или какой-то там еще невысказываемый и неуловимый диалог. Оставаясь теми же самыми, каждый раз они открываются новыми гранями, восхищают, ошеломляют, радуют или разочаровывают, оттого приобщиться к ним хочется снова и снова. Но только при первой встрече они могут открыться неожиданно и ярко. Незабываемо.
Такая встреча произошла у меня на днях. Наконец-то я доехал до Ярославля, где в художественном музее хранятся «Сирень и незабудки» и «Иней» любимого мной И. Грабаря.
Живопись «Сирени и незабудок», довольно осторожная и сдержанная, меня несколько разочаровала. Увидев ее воочию, я понял-таки, почему И. Грабарь спустя годы настоял на рокировке: «Сирень и незабудки» из Русского музея попали в Ярославский музей, а купленные этим музеем «Цветы и фрукты на рояле» – в Русский.
От «Инея» я, конечно, ожидал чего угодно, но только не того, что увидел; увиденное оказалось вопреки всем ожиданиям.
Вот то место «Автомонографии» Грабаря, где говорится об «Инее»:
«С половины января [1905 года] я опять в Дугине и снова за лихорадочной работой. Пишу главным образом на всякие лады иней: в серый день, в солнце, утром, вечером. Задумываю большую сюиту “День инея”, для которой пишу без конца маленькие быстрые цветные наброски, минут по пять – десять, больше нельзя: стынет на морозе краска. Из этих набросков и пометок комбинирую в мастерской большую композицию, очень сложную со стороны технической, построенную на всяких трюках, без которых трудно было бы передать эффект, одновременно графический и живописный, наблюдаемый в некоторые инейные дни и при некоторых видах инея, ибо последние весьма разнообразны и разнородны.
В результате этих исканий явилась картина, приобретенная Московским литературно-художественным кружком и после революции переданная Ярославскому музею. Я ни в малой степени не был ею удовлетворен, считая ее прямой неудачей, явившейся следствием перевеса рассудочного момента над интуитивным. В свою очередь, это пришло от парижских новинок, любования импрессионизмом и зачинавшегося еще только неоимпрессионизма. Мой мазок потерял какую-то долю эластичности, утратил свободу, оказался в плену у догмы. Отсюда сухость, механичность, преобладание расчета над чувством. Это наиболее импрессионистическая полоса моей живописи. Но публика ничего этого не замечала и была от картины в восторге».
Я смотрел Грабаря в Третьяковке, Русском музее, Нижегородском и Ивановском областных музеях и думал увидеть плотное фактурное письмо, которым, в моем понимании, только и можно было передать «рельефы» густого инея. Вместо этого «Иней» оказался написанным как бы сухой кистью, мягкими, еле касающимися холста движениями. Грунт, как я определил на глаз, клеемеловой, на котором Грабарь писал в те годы, во многих местах скоблился и процарапывался, чем создавались разнообразные преломления белого и обеспечивалась тончайшая игра света. Видимо, это и были «всякие трюки». В таком сочетании – едва уловимых касаний краски и скоблении грунта – и родилось легкое живописное дыхание этой вещи. Она выполнена безупречно с точки зрения оригинальности технической, а суха и механична, наверное, из-за непропорционально большого для воплощения этих технических задач формата.
Грабарь, глубокий знаток техники и технологии, разумный экспериментатор и яркий живописец, поразил снова. Только «золотая» рама, в которую одета картина и которая совершенно не годна для мягкого колорита «Инея», слегка подпортила впечатление.
Фото: