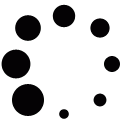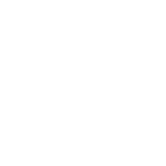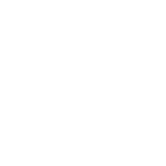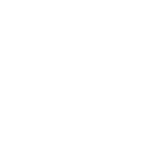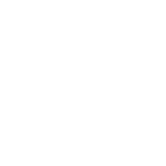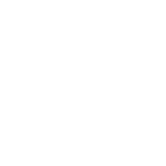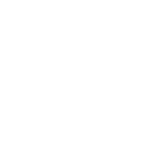Когда-то мне казалось, что живопись должна быть непременно наполнена смыслом. Я хотел для себя сформулировать его. Сформулировать так, чтобы живопись «говорила» нечто, постигаемое рационально. Сейчас мне кажется, что эта линия уводит искусство в сторону, лишает его художественной полноты.
Я думал над тем, на какой основе строится живопись, если не на интеллектуальной. Здесь очень подходит сравнение с литературой. Я вычитал, что во французском литературоведении есть такой термин – «эвокация». Он означает литературные приемы, цель использования которых состоит в том, чтобы передать читателю ощущение от объекта, а не воспроизвести сам этот объект. Имея в виду, что для литературы данный прием в принципе не характерен (им пользуются, но он не является изначально присущим литературе, не стоит в ряду «классических» литературных приемов), поскольку в литературе огромное место отведено рациональности и интеллектуальному началу, то в этом смысле литературу можно представить кривым зеркалом живописи. Живопись как раз очень мало пользуется рациональностью как средством передачи живописного образа, зато прочно сидит на приемах передачи ощущений. Живопись плохо согласуется с воздействием на интеллектуальные рецепторы, зато рецепторы эмоциональные, подсознательные она задействует в полной мере. Причем комбинирование первого и второго возможно (Леонардо, Рембрандт, Делакруа, Пикассо), но второе – передача ощущений, «живописность», пластическая красота – все равно превалируют. Переизбыток первого, как правило, лишает произведение художественности (многие «передвижники», ведь именно за это о них нелестно высказывался Бенуа в своей нашумевшей некогда «Истории русской живописи в XIX веке», частично представители соцреализма, Глазунов).
Думаю, нечто подобное имел в виду Ким Бритов, когда говорил: «60 лет я считал, что цвет и настроение – главное. И только к концу жизни понял, что главное – энергия, вложенная в произведения». И это бритовское высказывание точнее жонглирования избитой философской дихотомией формы и содержания. Добавлю: в этой энергии неизбежно заложен и интеллектуальный багаж художника, и масштаб его творчества, и его индивидуальность.
Может быть, оттого смысл живописи очень трудно формулируем. Он хорошо усваивается чувственно, эмоционально, через переживание и откровение. Перевести в языковые формы цвет, линию, форму, фактуру, пластику крайне трудно. Для того, чтобы почувствовать их гармонию (или дисгармонию) иногда достаточно первого взгляда, который или восхищает или разочаровывает.
Следствий неверного понимания смысла живописи самими художниками (про зрителей я говорить здесь не буду, поскольку это отдельная тема, сильно выходящая за рамки обозначенного вопроса), к сожалению, хватает.
Вот один пример. Вы видите работу, написанную в традиционной реалистической манере, не выходящей за рамки академической выучки. В то же время автор, видимо, тяготясь этим, пытается «выскочить» из академических одежд и дает такой работе слишком абстрактное название, типа «Бесконечность», «Загадка», «Наслаждение» и прочее в подобном духе. Возникает ситуация, когда название «перекрикивает» художественную сторону произведения, когда высоте интеллектуального начала не соответствует начало художественное. И вы как зритель не верите такому произведению.
Другой пример. Если вы замечаете на полотне напористое желание художника «высказаться» (в плане именно интеллектуальном, а не в смысле максимального выплеска на холст творческой энергии), то чаще всего вы сталкиваетесь со «сваливанием» его в утомляющую повествовательность, назидание и плакат. Голый остов ума, мясо художественности съедено интеллектом. Вам остались одни жалкие кости «смысла». И вы немного жалеете, что автор, выбирая творческий путь, однажды занялся живописью, а не литературой.